 Видели ли вы когда-нибудь пустые российские деревни?
Видели ли вы когда-нибудь пустые российские деревни?
Улицы, заросшие бурьяном, пересохшие неухоженные колодцы, дома, жалобно и подслеповато смотрящие в закат пустыми переплетами окон?
Старики умирают, молодые и те, кто хотел гладкой сытой жизни, уезжают в город. Остаются только дикие кошки и вороны.
Эта деревня еще жила — десяток семей, не желающих покидать свои гнезда. Районный центр был не так далеко, всего-то сорок километров, и местный районный начальник не раз предлагал деревенским перебираться поближе к цивилизации, обещая помочь отстройкой жилья и землей, но старики — никого моложе шестидесяти – упирались.
— На своей земле умирать надо, — твердил упрямо Афанасий, крепкий кряжистый дед. Жена давно умерла от рака, единственный сын – кадровый офицер – погиб в очередной государственной войне, не успев одарить родителей внуками.
Сметану и сливки брали всей деревней у бабки Агафьи, корова которой давала особенно жирное и сладкое молоко, хлеб раз в неделю завозили из райцентра.
Хуже было с лекарствами и врачом. Простуды и ревматизмы заговаривала та же Агафья, шепотками и молитвами. От сердечных приступов умирали.
Так и жили, медленно угасая, как пламя догорающей свечи.
Афанасий и Степан отстроились когда-то на отшибе — два одиноких старика под семьдесят. Всю жизнь были соседями и кровными врагами. Откуда пошла вражда – уже никто толком и не помнил.
То ли Афанасий у Степана девку по молодости отбил, то ли Степан у Афанасия яблоню срубил без спросу, которая ветвями крышу покалечила.
Ссорились люто и крепко. По молодости зубы друг другу считали и мелкие пакости творили, к старости угомонились вроде, да нет-нет – и схлестнутся.
— Что делите-то, ироды, — причитала бабка Агаша, колдующая над спиной Степана с горячей глиняной массой — прихватило, когда огород поливал.
— Да я его, контру такую, жалко в молодости еще не пристрелил, — шипел сквозь зубы дед, морщась от нестерпимой рези в пояснице.
— На кладбище вас вместе положут ить. И там будете друг другу кости пересчитывать?
Степан возмущенно пошевелился и снова охнул от боли.
– Сукин он кот и все тут!
Агафья укоризненно покачала головой и ушла, велев лежать под компрессом, сколько вынесет кожа. А потом заваривать настой травяной да пить каждые четыре часа.
Прошел сентябрь. Выкопали лук-картошку. Потом сняли урожай моркови и капусты.
Пахнуло холодами — зима-бестия вступала в свои права.
Рано утром Степан выглянул в подслеповатое окошко и увидел, что вокруг белым-бело. Нежданный снег затянул землю пушистым ковром.
— Далеко еще вроде, до Покрова-то, — проворчал старик. Накинул теплую меховую фуфайку, взял стеклянную банку под молоко и вышел на улицу.
Глянул в окна соседа — темень.
— Спит, едрить его через коромысло, — подумал Степан и похромал по заснеженной белизне к центру деревни.
Разговорился с бабками, сидевшими у дома Агафьи, вернулся домой почти к полудню.
Снег у ворот Афанасия был даже не притоптан. Но что было особенно странно – не курился дымок печи. В такой-то холод?
Степан хмыкнул и подошел поближе, заглянуть в окно. Пошебуршал корявым пальцем по стеклу. Тишина.
Через огород зашел во двор соседа, каждую минуту ожидая окрика с матерком.
В избе было темно и холодно. Уже волнуясь, Степан заглянул в маленькую спаленку.
На кровати с закрытыми глазами лежал Афанасий.
— Ты чего это удумал, а, хрыч старый? — Степан подскочил резво, как молодой, взял в ладонь-лопату безжизненно-вялую руку своего заклятого врага.
— Умираю я, Степа, — прошелестел сосед. – Нет сил встать.
— Я те покажу умирать! — Степан засуетился, растапливая печь, забегав по избе.
Накормил кур – какую-никакую животину, разогрел на плите чай, сбегал к себе домой за медом. И — снова бежать, уже к Агафье.
— Да что вы меня, как молодку, гоняете, — заворчала старуха. Но шаль накинула и покорно отправилась за Степаном.
В избе Афанасия стало тепло и уютно, но сам он по-прежнему лежал на кровати навзничь, неподвижный и темный, как дубовая колода.
Бабка взяла его за руку, перевернула ладонь, поднесла в глазам. Вздохнула.
— Ты это… Давай ему настой какой свой. От хвори-то, — заволновался Степан.
Агафья колобком покатилась в маленькую кухоньку, поманив его за собой пальцем.
— Уходит твой заклятый враг. На полдороге, не остановишь уже. Посиди-ка с ним, чтобы цеплялся он душой за тебя до последнего. А я за иконой схожу, да свечками. Рассказывай ему…
— Что рассказывать? — жалко и потерянно спросил Степан.
— Ну что тебе, из молодости вспомнить нечего? Эх, мужики, мужики… Право слово, дети малые. Прощайся с ним, Степа.
И бабка выкатилась из избы, хлопнув дверью.
— От ведь свoлочь ты какая, Афоня. Разболеться вздумал, — Степан сел возле кровати соседа, старинной, с металлической рамой и шишечками на ней. Сел и задумался, вытирая краем рукава безнадежные злые слезы.
— А помнишь, Степан, Евдокию? — услышал вдруг тихий, как вздох, вопрос Афанасия.
Старик молча кивнул, хотя лежащий с закрытыми глазами сосед не мог его увидеть.
— Любила ведь она тебя. До последнего любила. А со мной так… дразнила меня, как дите малое. Злился я крепко на тебя, Степан. Мол, почему не я? — Афанасий вытолкнул последнее слово с трудом и снова замолчал.
— А помнишь, у тебя как-то в огороде капусту известью засыпали? Так это я был, дурак старый, — Степан смущенно закряхтел. — А ты мне потом в трубу валенок с селитрой, серой и углем забил, и мне всю трубу с потолком разворотило А Евдокия… да что Евдокия, — и он махнул рукой.
Афанасий прошелестел тихим смешком и снова затих. Его грудь поднялась и опустилась в последний раз.
— Ну как же так… Афоня, — Степан приложил ухо к костлявой ключице соседа… И не услышал ничего.
Засуетился, зачем–то поправляя одеяло на кровати. Потом сложил безжизненные руки Афанасия крестом, вытер холодную соленую влагу с лица. Вышел во двор как был, неодетым, и подставил лицо под кружащиеся снежинки.
Вернувшаяся Агафья зашикала на него, загоняя обратно в дом. — Пневмонию никак хочешь заработать, пень старый, — закричала она на него.
Хоронили Афанасия всей деревней. С трудом выдолбили старики могилу в еще не полностью промерзшей земле. Отпели, отплакали. Каждый из них мог стать следующим.
— Примешь, Афоня? — через девять дней Степан зашел в холодный мертвый дом своего заклятого врага с бутылкой водки.
Кур разобрали по соседям, собаки у Афанасия не было, кот Василий дичился, не принимая еду у чужих, гонял мышей в подвале и на чердаке.
Степан зажег тусклую лампу, сел за стол, разлил водку по двум стаканам. Один выпил махом, второй накрыл ломтиком хлеба с солью.
— Как жить будем, Афанасий? — задал вопрос он углу, в котором висела сейчас икона. Вздрогнул — показалось, что лик иконный умехнулся. Выпил еще, звякнул стаканом о граненый бок стакана с хлебом.
Колыхнулись занавески вдруг на запертых ставнями окнах, замигал свет лампы… И потух.
— Ну выпьем что ли, сосед. Впервые за одним столом в последние полсотни лет, — услышал вдруг Степан знакомый до боли голос и почувствовал, как по позвоночнику пробежали, топоча лапками, мурашки.
О его пустой ударился со звоном полный стакан, старик услышал бульканье жидкости и смешок.
— Свят-свят, — перекрестился размашисто, дрожащей рукой.
— Ничего, встретимся скоро, — успокоил его умерший Афанасий. – Все мы тут будем, одной землей повязаны. Ну, наливай что ли. И не пугайся, сам ведь знаешь — до сорока дней мы еще жизнь отряхиваем с подошв.
— Скучаю я по тебе, Афоня, — с тоской сказал Степан. – Дураки-то мы какие с тобой были, а? Не жилось нам спокойно.
Афанасий молчал. Замигало электричество, нить накаливания медленно наливалась сиянием.
Старик покрутил головой — никого. Глянул на стол — ломтиком хлеба был накрыт уже пустой стакан.
Степан умер через месяц, под свой день рожденья. В лютый сорокаградусный мороз.
Деревня спохватилась быстро — он не пришел за обычной порцией молока. Зашедшие в дом деревенские увидели его сразу: он сидел за столом, откинувшись на бревенчатую стену, с улыбкой на лице, одетый в свой лучший костюм — синий двубортный пиджак и брюки на помочах.
На столе перед ним стояла бутылка водки, отпитая едва на треть. И два пустых стакана, один из которых был накрыт ломтиком хлеба.
© паласатое

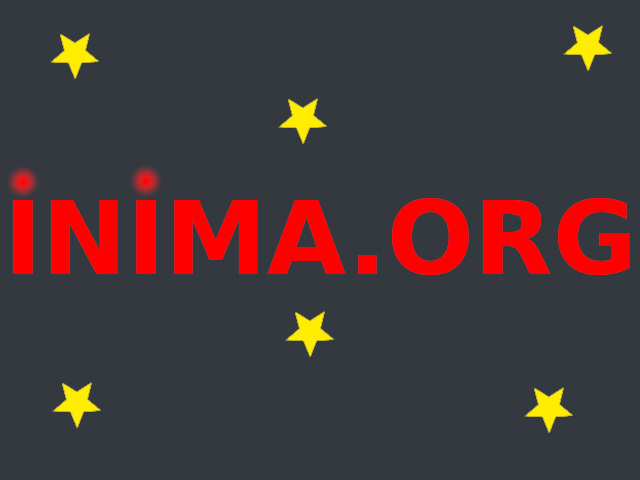


Грустно.